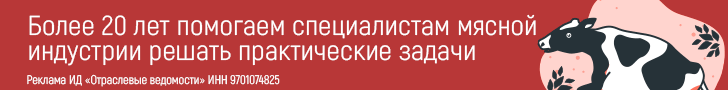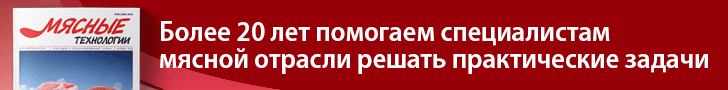Директор ФНЦ пищевых систем Оксана Кузнецова: Качество колбас сейчас точно лучше
Директор ФНЦ пищевых систем — о том, что мы едим
Колбасы и другие продукты сейчас по качеству лучше, чем в советские годы. Пальмовое масло убрать из детского питания не получится. А молоко не киснет благодаря современным технологиям, а не химии. Об этом в интервью “Российской газете” рассказала директор ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Оксана Кузнецова.
За те 95 лет, которые существует ваш Центр, как изменилось качество продуктов? Например, иногда звучит мнение, что в колбасе не осталось мяса.
Оксана Кузнецова: В 1930 году, когда вышло постановление о создании промышленной мясной отрасли (в том числе и нашего института как организации, научно и методически сопровождающей развитие отрасли), стояла задача: обеспечить население молодой Советской республики качественной мясной продукцией в достаточном объеме после голодных лет революции и Гражданской войны. Так, нашими учеными были разработаны рецептура и технология производства колбасы “Докторской” (а также многих других всем известных колбас). Классический состав “Докторской” давал много калорий, необходимых работникам, занятым на интенсивных и тяжелых производствах. Но, вопреки распространенному мнению, диетической назвать ее сложно — в ней было слишком много соли и жира. А еще там присутствовала селитра в качестве консерванта и цветообразователя.
Сейчас же мы стараемся снизить содержание соли и жира в колбасах, а вместо селитры за цвет отвечает нитрит натрия. В результате современные колбасы ближе к рекомендуемым врачами нормам. Хотя это непростая работа: жир отвечает за вкус, и когда его снижаешь, есть риск потерять вкусовые качества. А снижение содержания соли может привести к снижению сроков годности.
Так что качество колбас сейчас точно лучше. Был момент в 1990‑е годы, когда на наш рынок стали приходить иностранные компании со своими технологиями и пищевыми добавками. Но нам удалось удержать качество. В той же “Докторской” как не допускались мясо птицы и соевый белок, так и не допускаются.
Почему тогда йогурт стоит дороже молока, а колбаса часто даже дешевле мяса? Его же еще надо переработать.
Более того, в последнее время на фоне санкций в колбасе стало меньше и пищевых добавок. Цена курицы и свинины снизилась, поскольку мы увеличили их производство, а вот стоимость пищевых добавок (в основном импортных) выросла. Поэтому, если кого-то пугали добавки, могут выдохнуть.
Высокое качество мясной продукции подтверждается и ее востребованностью на зарубежных рынках. Покупают нашу готовую мясную продукцию не только страны СНГ, но и другие — например, сейчас мы видим заинтересованность со стороны Китая.
Качество других продуктов тоже стабильно высокое. К тому же у нас в магазинах сейчас такой огромный выбор продуктов, что, если не нравится качество одного, потребитель может всегда выбрать другие, и производители борются за качество.
Вот вы говорите: “высокое качество”. Но, например, практически во всей кондитерской продукции присутствует пальмовое масло. Сейчас в Госдуме новый виток борьбы с ним. Действительно ли оно несет опасность для здоровья?
Оксана Кузнецова: Ученые оперируют данными проведенных исследований. Мы много консультировались с нашими международными коллегами, с Codex Alimentarius (свод пищевых международных стандартов), ВОЗ. Достоверно известно, что качественное пальмовое масло не вызывает неблагоприятных последствий в организме человека.
А вы уверены, что за те исследования, которые проводил ВОЗ, не заплатили производители пальмового масла?
Оксана Кузнецова: Пальмовое масло активно используется уже на протяжении многих веков. То есть у нас уже есть большая выборка потребителей этих продуктов. И достоверных данных о том, что потребление пальмового масла привело к каким-то проблемам со здоровьем, нет. Острее стоит вопрос с холестерином или с трансизомерами жирных кислот, чем с пальмовым маслом.
Другое дело, что пальмовое масло может быть разного качества. У нас разработаны три ГОСТа по пальмовому маслу. И мы выступаем за ужесточение контроля по этим стандартам со стороны надзорных органов. Нам важно организовать прослеживаемость в растительных маслах, в том числе в пальмовом, как это уже сделано по животным жирам. Тогда опасения потребителей снимутся.
Звучали также совсем радикальные предложения: исключить пальмовое масло из детского питания. Это возможно?
Оксана Кузнецова: Исключить полностью его будет проблематично. Нам нужно будет предложить полноценную замену для создания нужного жирно-кислотного состава, который адаптирован для физиологических норм ребенка. И пока какой-то полноценный аналог подобрать не удалось. Если исключить пальмовое масло, это значительно снизит доступность детского питания, потому что это будет слишком дорогой продукт, который практически никто не сможет купить. Он в разы будет дороже.
Если бы можно было отказаться от пальмового масла, с учетом такой его демонизации, производители детского питания первыми бы это сделали. Они бы с удовольствием написали на упаковке: “Без пальмового масла”, установили бы цену на 10% выше, и такой продукт сметали бы с полок. Но пока так не получается сделать.
Ваш центр занимается научной экспертизой продуктов. С какими нарушениями вы чаще всего сталкиваетесь сегодня — с фальсификацией, нарушением технологии, подменой сырья?
Оксана Кузнецова: Самое распространенное нарушение — скрытые (не заявленные) компоненты в продукции. Например, на маркировке в колбасе написано: “свинина”, “говядина”, а по нашим анализам там обнаруживается еще и более дешевая птица.
Встречаются и необычные компоненты. С производителями, которые пытаются фальсифицировать продукты, у нас постоянно идет такая игра в казаки-разбойники. Фальсификаторы придумывают какой-то новый компонент, мы сначала пытаемся понять, что это за компонент, потом разрабатываем методику выявления, выявляем, органы надзора наказывают — производители прекращают его использовать. Но скоро придумывают новый способ фальсификации. И все начинается заново.
Вы сказали, что пищевых добавок стало меньше. А стоит вообще остерегаться добавок с буквой E?
Оксана Кузнецова: Добавка с индексом Е — это доказательство того, что она изучена и разрешена. У таких добавок разработаны методики анализа, они зарегистрированы, есть строгие нормы применения и контроль за ними. Гораздо опаснее, когда в продукте присутствует какая-то добавка без Е‑кода. Как раз такие добавки не контролируются. Сказать, сколько их содержится в продукте и какая доза будет безопасной, мы не можем.
При этом в России регулирование пищевых добавок очень жесткое. Наш список разрешенных Е‑добавок гораздо короче, чем разрешает международный Codex Alimentarius (основной кодекс пищевой безопасности). И контроль за соблюдением этих правил очень серьезный: Роспотребнадзор и Россельхознадзор постоянно проверяют продукты на наличие запрещенных веществ. Например, полтора-два года назад прошла волна штрафов и даже изъятий деклараций за использование трансглутаминазы — это так называемый “мясной клей”, который помогал склеивать продукты и улучшать текстуру. Он запрещен к применению. Сейчас благодаря разработанным, в том числе нами, методам контроля ее сразу обнаруживают.
Над какими важными ГОСТами центр работает сейчас (или недавно разработал)? Что они изменят для потребителей?
Оксана Кузнецова: У нас сейчас большая программа исследований методов определения качества и безопасности продукции и соответствующих ГОСТов. Так, мы работаем над ГОСТами для определения пищевых красителей. Потребитель опасается синтетических красителей. К тому же некоторые из них могут вызывать гиперактивность у детей. Мы разрабатываем ГОСТы, которые не просто подтверждают наличие того или иного красителя, но и измеряют его концентрацию.
Отдельная большая работа — стандарты для детского питания. Сейчас звучат предложения запретить промышленную колбасу и сосиски в детских учреждениях — дескать, вредная еда. Но наша позиция — не изымать эти продукты, а сделать их максимально полезными для ребенка. Мы разработали множество рецептур полезных детских сосисок и колбас: жир и соль убираем, добавляем витамины и повышаем содержание белка. Проблема-то в школьном питании в другом: в основном закупается самое дешевое мясо, которое часто некачественное. С сосисками, изготовленными промышленным способом, такая ситуация полностью исключается, так как это уже готовый продукт, за который несет ответственность производитель.
Кроме того, институт разработал ГОСТ на полутвердые сыры (раньше такого вообще не было). Мы также разработали методику определения ДНК мясных компонентов: скоро можно будет точно узнать, сколько на самом деле мяса в колбасе. Совсем недавно вышел наш стандарт по срокам годности мясных продуктов. Мы в нем учитываем не только микробиологию, но и вкусовые характеристики. Иногда продукт безопасен по микробиологии, но на вкус и запах уже не соответствует свежему.
Кстати, что касается срока годности: вызывает удивление, что молоко сейчас не киснет, помидоры лежат годами и не портятся. Как это возможно, если вы говорите, что у нас продукция хорошая?
Оксана Кузнецова: Объяснение простое — в развитии технологий. В молоке, например, мы применяем пастеризацию, фильтрацию, а для хранения разработана специальная тара, которая помогает нам избежать микробиологической порчи. В мясной промышленности мы используем вакуумную и газовую упаковку: раньше колбаса лежала 3 – 4 дня и потом начинала портиться или плесневеть, а вакуум “выключает” аэробные бактерии и плесень, и срок годности сразу вырастает до 20 суток без изменения качества.
Мы также используем природные антиоксиданты, добавление которых позволяет дольше сохранить продукты свежими. Например, экстракт розмарина — натуральный антиоксидант: он не дает жирам окисляться и горчить. Витамин Е (токоферолы) тоже используется в маринадах и начинках.
Кроме того, на заводах вырос санитарный контроль. Сейчас современный мясокомбинат — это стерильное помещение. Чтобы туда попасть, надо переодеться, надеть стерильный костюм, сто раз помыть руки и обувь.
Видите ли вы тренд на ЗОЖ? Мы стремимся есть более здоровую еду или по-прежнему жареную картошку заедаем бургером и запиваем сладкой газировкой?
Оксана Кузнецова: Тренд на здоровый образ жизни определенно есть, особенно среди молодежи. И производители активно откликаются на этот запрос: убирают из продуктов сахар, солят меньше, снижают жирность, вводят в состав отруби, клетчатку, добавляют белок и витамины.
При этом, я считаю, не нужно демонизировать жареную картошку или бургер. Их тоже можно есть. Главное — знать меру.
Это же ультрапереработанная еда, потребление которой врачи рекомендуют ограничивать.
Оксана Кузнецова: Все не так просто. Система классификации пищевых продуктов NOVA делит продукты на четыре группы в зависимости от степени их переработки. Но по этой методике даже финики, обработанные диоксидом серы, — уже ультрапереработанные продукты. Поэтому большой вопрос, что на самом деле считать ультрапереработанными продуктами. Ученые недавно провели эксперимент: собрали из продуктов четвертой категории — ультрапереработанных — полноценный рацион на 2000 ккал. Оказалось, что из таких вроде бы вредных продуктов вполне реально составить завтрак, обед и ужин, который отвечает всем рекомендациям по здоровому питанию.
И потом, смотря как готовить котлету для бургера: достаточно просто вовремя менять масло для жарки, а в фарш добавлять перец и лук (природные антиоксиданты), чтобы значительно снизить риск образования канцерогенов.
Последние минимум 10 лет Россия стремится импортозаместить сначала готовое продовольствие, а теперь — ингредиенты для его производства, оборудование и т.п. В чем заключаются сложности реализации подобных проектов?
Оксана Кузнецова: Сложность — в первую очередь в отсутствии производств, которые могут достаточно оперативно перестроить свои технологические линии для выпуска пищевых продуктов. Для большого химического предприятия, которое выпускает промышленную химию или удобрения, производство пищевых добавок — маленький, нерентабельный и сложный бизнес. Объем производства — в разы меньше, а требования к пищевому производству гораздо строже. А кроме того, Китай дешево завозит ингредиенты, поэтому внутреннему производителю тяжело конкурировать.
Да, в Минпромторге и Минсельхозе есть программы развития этого направления. Сейчас, например, в Татарстане строится завод по производству лимонной кислоты. Но одного факта строительства мало. Нужно полное сопровождение: оборудование, люди, рынки сбыта. У нас в этой цепочке огромный пробел с кадрами и оборудованием.
Самая большая проблема — кадры. Лимонная кислота, желатин, аминокислоты — для их производства нужны технологи, которых просто нет. Мы при институте открыли магистратуру — учим студентов, которые уже работают на предприятиях. Но учеба — процесс долгий (четыре-пять лет), а отрасль хочет решительных быстрых изменений. Поэтому нам нужно кардинально менять подход — и со стороны производства (обучающие линии, стажировки), и со стороны государства (гранты, субсидии, новые учебные профили).
Определенно, у нас есть успехи в импортозамещении бактериальных заквасок — технология их производства нами отработана, есть коллекция микроорганизмов. Есть компании, которые вводят в свои производства линии по выпуску бакзаквасок. Если дальше продолжать масштабирование, то надо открывать новые производства в регионах. У нас есть огромный потенциал на Алтае, в Новосибирске, Крыму. Но в любом случае без государственной поддержки осуществить такие проекты будет очень сложно.